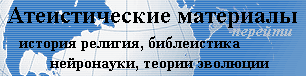Как прижилась новая вераСчитая православие единственной подлинной модификацией христианства, содержащей «чистую и неповрежденную истину Христову», его идеологи всячески подчеркивают отсутствие в этой конфессии каких бы то ни было посторонних примесей и инородных включений. Именно такая «чистота», «неповрежденность», «однородность» рассматриваются ими как одно из важнейших доказательств «богооткровенности» православия, его принципиального отличия от других религиозных систем — прежде всего более ранних, презрительно именуемых церковью «поганством» или «язычеством». Самих себя приверженцы православия объявляют монополистами «истинной веры», которая якобы воспринята в рафинированном виде и усвоена ими настолько глубоко и основательно, что в их сознании выработался иммунитет против внешних религиозных влияний, в том числе и языческих.
Вывод о принципиальном отличии православия от язычества и об отсутствии в православном вероучении и обрядности элементов языческого наследия очень важен для богословско-церковных кругов Московской патриархии. Он нужен им для того, чтобы обосновать «божественную сущность» своей конфессии, повысить мистическую значимость самого процесса христианизации Руси, который характеризуется церковной печатью как переход наших предков от заблуждения к истине, как замена «естественной» религии «богооткровенной».
Поэтому современным церковным авторам важно преподнести утверждение христианства на Руси как предопределенный свыше и стимулированный небесными силами процесс быстрого и глубокого усвоения всеми сословиями княжеской Руси и царской России «незамутненной православной веры» — усвоения, будто бы совершавшегося как скачок в новое качество и потому сопровождавшегося стремительным, полным и окончательным разрывом масс верующих с язычеством во всех его проявлениях. Русский народ, подчеркивал патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский), «более всего радел о сохранении в чистоте своей православной веры» (ЖМП, 1948, № 8, с. 6). «Приняв новую веру, — писал профессор-богослов И. Шабатин, — русские люди стремились к более полному освоению ее» (ЖМП, 1951, № 12, с. 44). Мысль о «глубоком восприятии веры Христовой нашими предками» постоянно высказывается и в церковной печати последних лет (Русская православная церковь, с.

.
Правда, иногда современные церковные авторы признают, что язычество на Руси не сразу сдало свои позиции и еще долго оставалось реальностью, с которой поборникам православия приходилось считаться продолжительное время. Обычно такие признания делаются в статьях и проповедях, посвященных миссионерской деятельности русских православных святых, и имеют целью показать самоотверженность этих миссионеров в насаждении «истинной веры».
Так, например, воспевая «старцев» (монахов, претендовавших на роль «наставников и руководителей душ человеческих на путях, ведущих к вечной жизни»), архиепископ Михаил (Чуб) как бы между прочим констатировал в статье «Духовность православия в выдающихся его представителях», что общество оставалось «долгое время после крещения Руси в плену язычества и двоеверия» (Богословские труды, сб. 10. М., 1973, с. 118).
Еще определеннее высказался по этому поводу протоиерей И. Сорокин, сумевший в одном абзаце своей проповеди «В день памяти всех святых, в земле Российской просиявших» высказать два взаимоисключающих суждения. Сначала он заявил, что вскоре после крещения киевлян «вея Русь стала православной», а затем добавил нечто прямо противоположное. Оказывается, «многие русские люди» продолжали верить в языческих древнеславянских богов, тайно ходили к колдунам, знахарям и волшебникам, обращались к «служителям идолов». «Долгое время» под покровом ночи в дремучих лесах и в домах совершались языческие обряды в честь домовых, леших и русалок. И все это было охарактеризовано автором проповеди как «двоеверие» (ЖМП, 1980, № 7, с. 45).
Признавая существование язычества не только до начала «крещения Руси», но и после, современные богословы русской православной церкви характеризуют его как нечто принципиально отличное от православия, никак не повлиявшее на православное вероучение и обрядность, существовавшее в качестве «суеверия», которое якобы со временем было полностью и окончательно вытеснено «истинной верой».
Между тем данные отечественной истории (в том числе и приводившиеся в дореволюционной церковной печати сведения о результатах миссионерской деятельности православного духовенства и монашества) свидетельствуют о том, что не было быстрого и глубокого усвоения народными массами нашей страны нововведенного христианства. Не получилось и полное преодоление христианством славянских дохристианских верований, обрядов, традиций. Зато имело место длительное, многовековое сосуществование византийского христианства со славянским язычеством: вначале в качестве параллельно функционировавших самостоятельных вероисповедных систем, а затем — вплоть до настоящего времени — в виде двух компонентов единого христианского религиозно-церковного комплекса, именуемого русским православием.
Как было отмечено ранее, во многих регионах нашей страны формальная христианизация местного населения началась значительно позднее начальной фазы «крещения Руси» и тянулась вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. Это значит, что на протяжении многих столетий язычество монолитной глыбой продолжало существовать как самостоятельное социальное явление, с которым православие не могло совладать. Лишь к началу XX века почти все народности нашей страны, придерживавшиеся дохристианских (языческих) верований, были обращены — по крайней мере номинально — в русское православие.
Само обращение в христианство того или иного племени, народности или народа еще не означало устранения язычества из религиозной жизни данной этнической группы: какое-то время язычество сохранялось в качестве идеологической оппозиции новопринятой вере и оставалось достоянием немалого числа лиц. Наличие значительных языческих групп и даже масс в составе формально окрещенной этнической общности — обычное явление в истории многих народов нашей страны, повсеместно отмечавшееся дореволюционными церковными историками. «Невозможно, — категорически заявлял в своей «Истории русской церкви» архиепископ Макарий (Булгаков), — чтобы в каком-либо народе вдруг могли искорениться религиозные верования, которые существовали, может быть, целые века и тысячелетня» (т. I, с. 25 — 26). Далее он показывал, что очень долго в России наряду с христианами были «такие, которые придерживались языческих преданий и суеверий. Некоторые собирались у рек, болот, колодцев и там совершали свои моления, приносили жертвы идолам; другие предавались волхованиям и чародеяниям: вера в силу волхвов была так велика, что по местам являвшиеся волхвы увлекали за собою целые толпы, несмотря на все безрассудство своего учения и даже явное противление христианству» (т. II, с. 293).
Действительно, стойкие приверженцы славянского язычества не просто хранили свои верования, оберегая их от посягательств извне, но и активно отстаивали традиционные формы религиозной жизни, оказывая противодействие попыткам миссионеров насильно или с помощью уговоров навязать им новую веру.
По свидетельству летописи, были такие язычники-оппозиционеры в среде киевлян, которых обращал в христианство сам князь Владимир; именно они игнорировали категорический приказ великого князя и предпочли попасть в число его врагов, но не принимать новой веры.
Несколько веков существовала языческая оппозиция в Новгородской земле, о чем свидетельствует не только поддержка большинством новгородцев в 1071 году волхва, но и другие события такого же рода, отмеченные историками Великого Новгорода. Очень долго сохранялось влияние язычества в Пскове, а также в других древнерусских землях, подвергнувшихся христианизации в разное время.
Но дело не в одной лишь языческой оппозиции с ее открытым непринятием христианства. Гораздо серьезнее было непринятие скрытное, ослаблявшее христианство изнутри. Фактическими язычниками оставались многие номинальные христиане. Такое состояние сами же богословы охарактеризовали как «двоеверие». Вот что пишет о них «Повесть временных лет»: «Словом называемся христианами, а на деле живем, точно поганые... Ведь если кто встретит черноризца, то возвращается домой, также встретив отшельника или свинью, — разве это не по-поганому?.. Этими и иными способами вводит в обман дьявол» (с. 314).
Многие из крестившихся во времена князя Владимира, признает архиепископ Макарий (Булгаков) в своей многотомной «Истории русской церкви», «в душе оставались язычниками; исполняли внешние обряды святой церкви, но сохранили вместе суеверия и обычаи своих отцов. Неудивительно, если некоторые из подобных христиан могли с течением времени, по каким-либо обстоятельствам, даже вовсе отпасть от церкви, снова сделаться язычниками» (т. I, с. 28).
Как о массовом явлении пишет о «двоеверии» номинальных христиан профессор-богослов Е. Е. Голубин-ский: «В первое время после принятия христианства наши предки в своей низшей массе или в своем большинстве, буквальным образом став двоеверными и только присоединив христианство к язычеству, но не поставив его на место последнего, с одной стороны, молились и праздновали богу христианскому с сонмом его святых или — по их представлениям — богам христианским, а с другой стороны, молились и праздновали своим прежним богам языческим. Тот и другой культ стояли рядом и практиковались одновременно: праздновался годовой круг общественных праздников христианских и одновременно с ним праздновался таковой же круг праздников языческих; совершались домашние требы через священников по-христиански и в то же время совершались они через стариков и через волхвов и по-язычески; творилась домашняя молитва богу и святым христианским и вместе с ними и богам языческим» (т. I, ч. II, с. 849).
О том, как медленно усваивалось христианство в Древней Руси, свидетельствует следующий факт, установленный академиком Б. А. Рыбаковым: «В материалах раскопок русских сельских кладбищ Х — XIII веков почти нет предметов, связанных с христианством. Деревня была еще языческой. Единственная уступка церкви состояла в том, что прекратилось сожжение мертвых и их стали предавать земле» 1.
Мало что изменилось в части «двоеверия» и в последующие столетия. Характеризуя церковную жизнь XV — XVI веков, архиепископ Макарий (Булгаков) отмечал, что хотя со времени начала «крещения Руси» прошли столетия, язычество все еще не сдавало своих позиций, продолжая успешно конкурировать с христианством. Многие, писал он, «еще верили в волхвов, знахарей, чародеев и думали, что они имеют сношения с злыми духами, знают таинственные силы природы, настоящее и будущее, что они могут портить людей и исцелять их, наводить на людей и на скотов всякие болезни и врачевать их, насылать народные бедствия и удалять их» (т. VIII, кн. III, с. 314).
Не только простой люд, но и великие князья обращались к ведунам и волшебникам: пользовались их заговорами, брали у них врачебные зелья и коренья, просили их помощи и совета. В частности, именно гак поступали Василий III и Иван IV.
Популярность язычества в формально христианской среде констатируется Стоглавом. «Волхвы и чародейники, — говорится в соборном документе, — дьявольскими действы мир прельщают и от бога отлучают .. да по погостам, и по селам, и по волостем ходят лживые пророки и заповедают богомерзкие дела творити». Там же отмечается, что даже священники («невегласы попы») совершали обряды чисто языческого характера: клали под престол на несколько недель соль, а потом «давали на врачевание людям и скотам»; то же проделывали с мылом.
В Стоглаве приведены многочисленные примеры совершения в христианские праздники чисто языческих обрядовых действий. Вот лишь некоторые из них: «В великий четверток рано утром палят солому и кличут мертвых...
В Троицкую субботу по селам и по погостам сходятся мужи и жены на жальниках (кладбищах) и плачут на гробах с громким воплем, а когда начнут играть скоморохи, гудники и перегудники, то, перестав плакать, начинают скакать и плясать, и бить в ладони, и петь сатанинские песни на тех же кладбищах...
В пасхальную неделю совершают радуницы2 (происходили на могилах и соединялись сначала с плачем по умершим, а потом с пиршеством при бубнах, песнях, плясках) и всякое на них беснование...
В ночь под праздник рождества св. Иоанна Предтечи и на самый праздник во весь день и ночь, равно и в навечерие Рождества Христова и Богоявления, в городах и селах мужи и жены, отроки и девицы собираются вместе и со всякими скоморошествами, с гуслями и сатанинскими песнями, с плясками и скаканием ходят по улицам и по водам, предаются различным играм и пьянству... а под конец ночи спешат к реке с великим криком, как бесные, и умываются водою, и когда начнут звонить к заутрени, отходят в домы свои и падают, как мертвые, от великого клокотания...
В первый понедельник Петрова поста ходят по селам, по погостам, по рекам и по рощам на игрища и творят бесовские потехи» (Цит. по кн.: Макарий. История русской церкви, т. VIII, кн. III, с. 342 — 343).
Такие же сетования на засилье язычества в номинально христианской среде встречаем мы и на страницах Псковской летописи XVI века. В частности, там приведено послание игумена Елеазарова монастыря псковскому князю (1505 г.), где выражено возмущение тем, что накануне рождества Иоанна Предтечи (Ивана Крестителя) «во святую ту нощь мало не весь град взмятется, и в селах возбесятся в бубны и в сопели и гудением струнным, и всякими подобными игрании со-танинскими, плесканием и плясанием, женам же и девам и главами киванием и устнами их неприязен клич, вся скверные бесовские песни, и хрептом их вихляниа, и ногам их скакание и топтание... яко сущий идолослу-жителие бесовский празник сей празнують... яко день Рождества Предотечи великого празнують, но своим древниим обычаем» (Псковские летописи, вып. 1,с.90 — 91).
Многовековую приверженность крещеного населения княжеской Руси и царской России языческим верованиям, праздникам и обрядам дореволюционные церковные историки объясняли не только силой традиции (приверженностью «вере отцов»), но и тем, что эти верования, праздники и обряды были теснее связаны с укладом жизни и бытом народным, чем христианские, сложившиеся в иной среде и потому очень долго остававшиеся чем-то чужеродным для наших предков.
«Двоеверие», сначала явное, затем скрытое, впоследствии было преодолено русским православием, но преодоление это оказалось в значительной степени формальным, и достигла его церковь ценой компромисса, посредством приспособленчества. Византийское христианство не устранило славянское язычество из сознания и повседневного обихода народов нашей страны, а ассимилировало его, включив языческие верования и обряды в свой вероисповедно-культовый комплекс.
Такая ассимиляция стала возможной потому, что христианство (в том числе и принесенный на Русь византийский вариант) содержит в себе многие элементы дохристианских верований и культов, языческих по своей религиозной сущности. Это родство христианства с язычеством, принципиально отрицаемое современными православными богословами и церковными проповедниками, создало основу для христи-анско-языческого синкретизма 1, составляющего религиозную сущность русского православия.
Как же осуществлялось ассимилирование византийским христианством языческого наследия дохристианской Руси?
Прежде всего произошло сближение основных объектов поклонения древних славян с главными персонажами христианского пантеона, у которых были оттенены их языческие начала. На Христа, богородицу и прочие христианские «силы небесные» были перенесены черты древнеславянских божеств-покровителей со всеми их свойствами и функциями, отражавшими характер хозяйственной деятельности и бытовой уклад жизни основной массы населения Древней Руси.
Так, например, евангельский «богочеловек» Иисус Христос, чей образ в христианском вероучении предельно усложнен и догматизирован (в нем персонифицированы такие сложные богословские понятия, как идея искупления, учение о спасении и т. д.), в сознании рядовых приверженцев русского православия основательно трансформировался. Он стал восприниматься как некое полуязыческое божество с чертами Рода и Перуна, пекущееся не о таких чисто мистических явлениях, как «спасение души», а преимущественно о земных нуждах своих почитателей. На Руси его почитали как Спаса-повелителя, которого следует побаиваться и потому регулярно ублажать жертвоприношениями, совершаемыми в храме Спаса-покровителя, чьей поддержкой надо заручаться во всех случаях жизни. Спаса-заступника, у которого можно искать помощь в трудную минуту. Поэтому и православные праздники, посвященные Иисусу Христу, отмечались в народном обиходе не как события евангельской истории земной жизни «сына божия», а как повод для поклонения Спасу-ревнителю о благополучии верующих в него и не скупящихся на жертвы ему.
Но главным объектом поклонения приверженцев православия на Руси стал не Иисус Христос и не христианская троица в целом (бог-отец, бог-сын и бог — дух святой), а земная мать «богочеловека» — дева Мария, которую чтут как «матерь божию», «богородицу». В сознании членов русской православной церкви она заняла — и продолжает занимать поныне — центральное место, не предусмотренное ни догматикой, ни нормами церковной жизни (канонами). Этот евангельский персонаж, которому христианским вероучением отведена далеко не центральная роль, принял на себя все то, что раньше предназначалось Рожаницам и Мокоши. Христианская богородица стала восприниматься с чисто языческих позиций: как женское аграрное божество, являющееся стимулятором непрерывного возрождения природы, источником плодородия земли, гарантом урожая — словом, создателем основ для нормальной жизни земледельца. Поэтому вопреки христианской догматике, которая характеризует богородицу прежде всего как «матерь божию», «приснодеву», «пречистую», «все-непорочную» и т. п., православные верующие выдвинули на первый план функции покровительницы, заступницы, помощницы в делах первоочередной важности: ее называют не только «утешительницей», «целительницей», «спасительницей», но и «вододательницей», «млекопитательницей», «спорительницей хлебов».
Центральное место культа богородицы в оязыченном русском православии подтверждается также тем, что ей посвящено больше икон, чем троице, Христу и всем остальным христианским персонажам, вместе взятым. Одних только «чудотворных» икон богородицы более двухсот: в «Православном церковном календаре на 1983 год» упомянуты 206 из них, а в таком же календаре на 1916 год — 212. Характерно, что лишь немногие из этих икон носят христианские названия, отражающие строго догматический взгляд на богородицу: «Слово плоть бысть», «Блаженное чрево», «Благовещение», «Всеблаженная», «Прежде рождества и по рождестве дева» и т. д. Значительная же часть «чудотворных» богородичных икон названа в соответствии с языческим истолкованием места богородицы в христианском культе: «Взыскание погибших», «Вододательница», «Всех скорбящих радостен, «Животодательница», «Жи-воносный источник», «Избавление от бед», «Милующая», «Млекопитательница», «Неопалимая купина», «Отрада», «Скоропослушница», «Спасительница утопающих», «Споручница грешных», «Тучная тара», «Утешение в скорбях», «Умягчение злых сердец», «Цели-тельнпца» и т. п.
Наряду с Христом и богородицей языческую окраску получили в русском православии и другие «силы небесные»: как положительные (ангелы, архангелы, херувимы и пр.), так и отрицательные (сатана, бесы и т. п.). К ангелам были причислены духи — покровители локального характера, вроде домового, а к бесам отнесена вся та мелкая нечисть, олицетворяющая неудачи и беды, которой фантазия славянина-язычника населила окружавший его мир.
Следы языческого влияния отчетливо просматрива-ются в православном культе святых, который сам является не чем иным, как рецидивом язычества в христианстве, помогшим последнему как монотеистической религии распространить свое влияние на приверженцев политеизма. На это обстоятельство указывал Ф. Энгельс, отметивший, что христианство «могло вытеснить у народных масс культ старых богов только посредством культа святых» 1.
Действительно, принесенные на Русь христианские святые совместились в сознании наших предков с древ-неславянскими божествами-покровителями и стали восприниматься не в православном контексте, а в чисто языческом. Такая же участь постигла и собственных святых русской православной церкви, которые стали появляться с XI века: князья Борис и Глеб, княгиня Ольга и др.
Например, в образе библейского пророка Илии, как он воспринимался обыденным сознанием приверженцев русского православия, отчетливо просматриваются черты древнеславянского Перуна. Поэтому и закрепилось за ним название — Илья Громовник. А так как день памяти этого святого приходился на конец июля (по старому стилю), то его почитали еще и как покровителя жатвы.
Севастийский христианский епископ Власий, никогда не занимавшийся скотоводством, ассоциировался (видимо, по созвучию) с языческим Волосом (Белесом), переняв от него функции «скотьего бога».
Епископ города Миры Ликийские Николай, реальность которого не доказана, что не мешает церкви чтить его как Николая Чудотворца или Николая Угодника, превратился в Николу — покровителя земледелия и урожая, а также властелина водной стихии — спасителя рыбаков и моряков (Никола Морской). Популярностью своей он соперничал на Руси со Спасом и богородицей.
Полководца римского императора Диоклетиана Георгия Победоносца (III в.) народная фантазия, вскормленная язычеством, «переквалифицировала» в Егория — покровителя скотоводства, земледелия и охоты, конкурировавшего с Власием и другими «скотьими святыми».
Византийских каменотесов братьев-мучеников Флора и Лавра (II в.) наделили чертами языческих «кои-ских богов» — покровителей и целителей лошадей.
Иерусалимского христианского архиепископа Модеста (VII в.) «специализировали» как «целителя скота», а римских врачей, «мучеников-бессребреников» Косму и Дамиана (III в.) сделали «целителями кур» (а заодно и покровителями кузнечного ремесла — «святыми кузнецами»).
Наши предки в случае заболевания обращались за помощью к своим божествам и духам. Став христианами, они искали такого же исцеления у христианских святых. Считалось, например, что Иоанн Креститель помогает от головной боли, мученик Лонгин-сотник (I в.) — от глазных болезней, священномученик Антипа (I в.) — от зубной боли, великомученик Артемий (IV в.) — от грыжи и болезней желудка, мученик Ко-нон (I в.) — от оспы, святитель Иулиан (I в.) — от детских болезней, преподобный Марон (IV в.) — от лихорадки и т. п.
По аналогии с общехристианскими святыми функции «покровителей и целителей» получили и русские «угодники божий», канонизированные церковью в разное время. Так, древнерусских князей Бориса и Глеба стали почитать как покровителей посевов, соловецких монахов Зосиму и Савватия — как опекунов пчеловодства и пр. Страдавшим глазными болезнями рекомендовали обращаться за исцелением к новгородскому епископу Никите (XII в.) или к казанским иерархам Гурию и Варсонофию (XVI в.), больным ногами — к Симеону Верхотурскому (XVII в.), изнемогающим от грудной болезни — к митрополиту Димитрию Ростовскому (XVIII в.), парализованным — к монаху Александру Свирскому (XVI в.) и т. д.
Дни памяти многих святых рассматривали как календарные даты, фиксирующие оптимальные сроки тех или иных сельскохозяйственных работ. Святых награждали эпитетами, не имевшими никакого отношения ни к роду их деятельности, ни к причинам церковного почитания — эпитетами, явно принижавшими образ «угодников божиих». Некоторые из них охарактеризованы прямо-таки фамильярно, словно речь идет не об объектах христианского пантеона, а о языческих духах-покровителях домашнего масштаба. Такие характеристики помещались в дореволюционных изданиях церковного календаря, в рубрике «Народные приметы».
Вот как изложены эти приметы в «Православном календаре на 1916 год».
18 января (здесь и далее даты приводятся по старому стилю) — память александрийского архиепископа Афанасия Великого, автора многочисленных богословских сочинений апологетического содержания (IV в.). В церковном календаре о нем сказано восторженно-почтительно: «Великий отец церкви и столп православия». А в народном он назван без всякого почтения «Афанасием ломоносом».
Константинопольского патриарха Тарасия (VIII в.), созвавшего VII вселенский собор, где было осуждено иконоборчество и восстановлено иконопочитание (день памяти — 25 февраля), в народе окрестили «Тарасом кумашником (лихорадочником)». А монаха-исповедника Василия (VIII в.) — «Василием капельником» (28 февраля).
По церковному календарю 19 марта почитается мученица Дарья — бывшая жрица Афины Паллады, принявшая христианство и за это пострадавшая в III веке. А в народном — она упомянута как «Дарья обгати проруби: белят холсты».
27 марта церковь чтит святую мученицу Матрону Солунскую (III или IV в.), а верующие почитали ее как «Матрену полурепницу».
Преподобная Мария Египетская (VI в.) в народном календаре охарактеризована как «Марья пустые щи» (1 апреля), мученица Ирина — как «Ирина рассадни-ца» (16 апреля), мученица Мавра (III в.) — как «Маеpa молочница» (3 мая), великомученица Ирина (I — II вв.) — как «Арина рассадница» (5 мая), праведный Иов Многострадальный — как «Иов горошник» (6 мая), мученик Исидор (III в.) — как «Сидор огуречник» (14 мая), халкидонский епископ Никита-исповедник (IX в.) — как «Никита гусятник» (28 мая), пророк Елисей (IX в. до н. э.) — как «Елисей гречкосей» (14 июня), Сампсон Странноприимец (VI в.) — как «Самсон сеногной» (27 июня),преподобномученица Евдокия (IV в.) — как «Евдокия огуречница» (4 августа), великомученик Никита (IV в.) — как «Никита репорез, гусепролет» (15 сентября), препо-добный Сергий Радонежский (XIV в.) — как «Сергий курятник» (25 сентября) и т. д.
Явно языческое понимание места и роли святых просматривается в следующих поговорках, вошедших в народный календарь: «Феодор Студит — землю студи г», «Пришел Федул — теплом подул», «Василий Парий-ский землю парит», «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда», «На Кузьму сей морковь и свеклу», «Борис и Глеб сеют хлеб», «Придет пророк Амос — пойдет в рост овес», «Стефан Савваит ржице-матушке к земле кланяться велит», «Святой Василий овцам шерсть дает», «На Лупа льны лупятся», «Святой Тит последний гриб растит», «Иван Предтеча гонит птицу за море далече» и пр.
Ассимилированию русским православием славянского язычества способствовало также почитание икон, которое в принципе ничем не отличается от поклонения древнеславянским кумирам и идолам.
Формально, согласно христианской догматике, сила иконы — в сверхъестественности изображенного на ней объекта (троицы, Христа, богородицы, святых), и помогает молящемуся перед иконой не сама икона, а отраженный на ней «первообраз». Фактически же с самого начала христианизации Руси приверженцы православия стали поклоняться иконе как самостоятельному объекту почитания (отсюда простонародное название иконы «богом») и именно от нее ждать помощи, содействия, заступничества. Принявшим новую веру иконы заменили их прежних языческих идолов; и относились к иконам в общем-то по-язычески, как к фетишам: их помещали не только в храмах и домах, но и на улице, на площади, на развилке дорог, во дворе (поближе к тем, кого икона должна была защищать), их старались умилостивить, как и древнеславянского истукана
К «защитной силе» икон обращались в трудные времена: в случае болезни, эпидемии, при неурожае или ином стихийном бедствии. Иконам возносили хвалу за хороший урожай, прекращение мора, благополучный окот скота и т. д. Перед ними зажигали благодарственные свечи, их покрывали дорогим окладом из серебра и золота, украшали драгоценными камнями. Но если молитвенные обращения к иконе не давали видимых результатов, то ее могли и наказать: снять со стены, убрать в чулан, а то и просто выбросить — словом, поступали с ней так же, как и с языческим истуканом, не ублажившим своего владельца.
Вот два примера таких наказаний, приведенные Н. М. Никольским в его «Истории русской церкви» (М., 1983, с. 51).
Во время взятия Новгорода шведами (1611 г.), когда город был охвачен пожаром, один новгородец выставил икону святого Николая и молитвенно просил ее уберечь его дом от огня. Однако, несмотря на эту молитву, дом загорелся. Возмущенный владелец иконы бросил ее в огонь со словами: «Ты не хотела помочь мне, теперь помоги себе самой!»
У крестьянина воры украли вола. Посчитав, что это случилось по нерадению иконы, которая почиталась как охранительница дома, хозяин выбросил ее в навоз, сопроводив свою карательную акцию следующими словами: «Я тебе молюсь, а ты меня от воров не сберегаешь!»
Имея в виду именно такое утилитарно-языческое отношение русского мужика к иконе, В. Г. Белинский в своем «Письме к Н. В. Гоголю» охарактеризовал его народной поговоркой: «Годится — молиться, а не годится — горшки покрывать».
Отношение к иконе как к фетишу, обслуживающему лишь своего хозяина, отчетливо проявлялось во время княжеских междоусобиц. Противоборствующие стороны, принадлежавшие к православию и, следовательно, обязанные поклоняться одним и тем же «небесным силам», чтить одни и те же иконы, на самом деле поклонялись лишь собственным иконам и пренебрежительно относились к иконам противника: над ними глумились, их уничтожали или брали в плен, чтобы затем сделать своими заступниками.
Бывали случаи, когда две разные иконы одной и той же богородицы противопоставлялись одна другой как фетиша враждующих между собой групп, каждая из которых исповедовала православие. При этом одна из таких икон объявлялась победительницей и ее чтили как «чудотворную». Следы такого противопоставления, языческого по самой своей сути, сохраняются в русском православии поныне.
...Среди «чудотворных» богородичных икон, особо почитаемых русской православной церковью, есть два образа богоматери, называемые «Владимирская» и «Знамение».
Первая икона была привезена в Киев из Византии. Находилась в Вышгороде, в одном из женских монастырей, откуда ее забрал князь Андрей Боголюбский (сын Юрия Долгорукого) и перенес во Владимир. Икона была главной святыней Владимиро-суздальского княжества, сопровождавшей князя во всех ero походах и «обеспечивавшей» ему поддержку богородицы. Позднее икона была перенесена в Москву, где также почиталась как «чудотворная»: ей приписывалось спасение Москвы от Тамерлана (1395 г.), Ахмата (1480 г.) и Махмет-Ги-рея (1521 г.).
Но однажды Владимирская икона богоматери была посрамлена (а с ней, естественно, и сама богоматерь), и посрамила ее вторая из названных выше икон. Произошло это при следующих обстоятельствах. В 1170 году войско Андрея Боголюбского осадило Новгород, уповая на содействие «Владимирской». Дальше предоставим слово составителям «Православного церковного календаря на 1979 год»: «Новгородцы, видя страшную силу противника и изнемогая в неравной борьбе, всю свою надежду возложили на господа и пресвятую богородицу. Святитель Иоанн, архиепископ новгородский, услышал в алтаре божием соборного храма глас, пове-чевший ему взять из церкви Спаса на Ильине улице икону пресвятой богородицы и вознести ее на городскую стену. Икону после слезных молений пред ней внесли на стену и поставили близ того места, где последовал приступ неприятеля. Одна из стрел суздальцев уязвила святой образ, при этом лик пресвятой богородицы обратился к городу и оросил своими слезами фелонь архи-пастыря. Этим чудотворный образ богома-тери подал осажденным знак (знамение) того, что царица небесная молится пред сыном своим об избавлении города» (с. 56).
Современного православного богослова, которому принадлежат приведенные строки, ничуть не смущает то обстоятельство, что православные суздальцы, чтившие богоматерь и поклонявшиеся ее Владимирской иконе, метали стрелы в Новгородскую икону той же бого-матери как в чужой, враждебный фетиш. Не видит он ничего необычного и в том, что Владимирская икона, уже бывшая «чудотворной», не пересилила Новгородской, тогда еще «чудотворностью» не обладавшей, что, следовательно, слава «Знамения» в бесславии Владимирской. А ведь все это — следствие чисто языческого восприятия иконы как идола, фетиша. И если такое восприятие не смущает нынешних идеологов русской православной церкви, то об основной массе дореволюционных верующих и говорить нечего.
Наконец, языческо-христианский синкретизм русского православия обнаруживается в том, что наиболее живучие славянские дохристианские праздники и ритуалы были включены (либо непосредственно, либо в несколько переосмысленном виде) в состав православной обрядности, а языческие символы переплелись с христианской символикой.
Ограничимся всего лишь несколькими примерами.
Древние славянские новогодние святки с ряженьем, колядками 1 и прочей языческой атрибутикой вошли в христианский рождественско-новогодний праздничный цикл, но их языческое содержание сохранилось.
Явно языческим элементом в православном церковно-праздничном ритуале является масленица — неделя, предшествующая предпасхальному великому посту. По своему происхождению и сущности это совокупность сельскохозяйственных и семейно-бытовых обрядов магического характера, отражавших радость расставания с уходящей зимой и психологическую подготовку древних славян к приближающейся весне. Основные компоненты этого праздника (блины, катанье на лошадях, ряженье, поминовение покойников, сожжение чучела «масленицы» и т. п.) не имеют никакого отношения к христианской символике. Кстати, именно аграрно-бытовые истоки масленицы позволили нашему обществу полностью очистить ее от религиозно-мимического содержания, искусственно вложенного в нее язычеством и христианством, и превратить ее в чисто светский праздник проводов зимы.
Колядки — песни, исполнявшиеся в дни празднования Коляды (так назывался цикл древнеславянских праздников, посвященных зимнему солнцевороту и тесно связанных с первобытным культом природы).
Много языческих включений в православной пасхе, которая воспринималась новокрещенными не столько как день воскресения Иисуса Христа, а как праздник воскресающей природы, во время которого старались магическими средствами обеспечить оптимальное развитие природных процессов, создающих материальную основу благополучия земледельца. Отсюда пасхальный культ хлеба-кулича и яйца — сим-волов жизни.
Древнеславянский цикл весенне-летних обрядов, связанных с культом предков и земледельческой магией (русальная, или зеленая, неделя — зеленые святки), был включен церковью в православный праздник троицу. Между тем основной элемент празднеств этого цикла — поклонение березе — не имеет никакого отношения к главному сюжету христианской троицы или пятидесятницы: схождению на учеников Иисуса Христа (апостолов) святого духа, благодаря чему они узнали о троичности бога: бог-отец, бог-сын и бог — дух святой.
Летне-осенние обряды славян, знаменовавшие завершение основных сельскохозяйственных работ, русское православие объединило в праздник преображения господня, получивший название спаса. Но в народном календаре спас связывался не с христианским сюжетом преображения Иисуса Христа на горе Фавор, а со сбором урожая: спас медовый, спас яблочный и спас хлебный.
Много языческих влияний в русской православной символике: в украшениях храмов, в отделке культовых предметов и богослужебного одеяния, в сюжетах икон и т. п. «Само церковное декоративное искусство русского средневековья, — считает академик Б. А. Рыбаков, — было пронизано языческими элементами. Языческие сюжеты дополняли, с точки зрения древнерусского человека, христианскую символику».
Изучив элементы украшений древнерусских храмов, церковных предметов и облачений, Б. А. Рыбаков убедительно доказал наличие в них языческих компонентов, что свидетельствует о «сильной живучести древних языческих образов, проникающих даже в сферу чисто церковного искусства»2.
Таким образом, у идеологов современного русского православия нет никаких оснований характеризовав свою религию как христианство первозданной чистоты и неземного происхождения, якобы не имеющее ничего общего с грубым, примитивным и приземленным язычеством. В действительности русское православие сформировалось как христианско-языческий конгломерат, что давало основание многим дореволюционным богословам и церковным историкам говорить о торжестве в нем фактического двоеверия.
Так, например, в неоднократно цитированной «Истории русской церкви» Е. Е. Голубинского не только приведены многочисленные примеры чисто механического соединения в русском православии элементов христианства и язычества, но и сделан вывод о том, что явное языческо-христианское двоеверие населения Киевской Руси так и не было преодолено в последующие века, а лишь приобрело скрытые формы.
После времен двоеверия явного, открытого и сознательного, писал этот церковный историк, настали времена двоеверия скрытого, маскированного и бессознательного. Наибольшая часть верований, празднеств и обычаев языческих осталась в народе и после исчезновения богов языческих, но ее стали воспринимать как наследие отцов. «Во втором периоде скрытого и бессознательного двоеверия, — считал Е. Е. Голубинский, — народ находится отчасти и до настоящего времени, ибо до сих пор под именем суеверий, обычаев и обрядов, народных праздников и увеселений он все еще немало удерживает в своей вере и в своем быту остатков язычества» (т. I, ч. II, с. 838 — 839). Но в таком положении, по мнению Е. Е. Голубинского, находился не только народ — полухристианами-полуязычниками были и религиозные идеологи, так как «с принятыми верованиями христианскими сохранен был весьма большой остаток прежних верований языческих», причем «часть языческой догматики перенесена была из язычества в хри-стианство сполна, во всем объеме» (там же, с. 835).
Все это, вместе взятое, подвело Е. Е. Голубинского к следующему заключению, которое он относил к духовенству и мирянам своего времени (конец XIX — начало XX века), но оно полностью применимо и по отношению к нынешним приверженцам русского православия: «Мы и доселе продолжаем язычествовать» (там же). В правильности приведенных слов одного из крупнейших историков русской православной церкви мы еще не раз сможем убедиться.